Пульс Востока: Авторитарные режимы и природа народных восстаний.
Author: DipComment
Date: 2016-06-04 16:33:45
Мы начинаем пилотный вариант программы
«Пульс Востока».
Речь пойдет о трансформациях, которые переживает Ближний Восток, Северная Африка и Средняя Азия. Сегодня для участия в программе мы пригласили директора Центра ближневосточных исследований
Игоря Семиволоса
и журналиста и оппозиционера из Казахстана господина
Айдоса Садыкова.
Тема сегодняшней программы «Авторитарные режимы и природа народных восстаний». Недавно исполнилось 100 лет со дня заключения соглашения Сайкс-Пико, но процесс формирования Ближнего Востока до сих пор не завершен и стабильность в регионе не установилась. Тот же процесс происходит в Средней Азии. Страны этого региона были привязаны сначала к царской России, а позже к Советскому Союзу и до сих пор идет борьба между народами этих стран и метрополиями, которые их удерживают в поле своего влияния.
Автор и ведущий программы –
Аурагх Рамдан.
Организатор мероприятия – информационное агентство и медиа центр
«GuildHall»
Господин Игорь Семиволос, как вы считаете, процесс деосманизации завершился или еще продолжается?
Игорь Семиволос:
Процесс деосманизации, насколько я понимаю, это процесс формирования национальных государств на Ближнем Востоке после развала Османской империи. Естественно, этот процесс еще не закончился, потому что 100 лет, которые прошли с момента развала Османской империи, это достаточно небольшой период для того, чтобы было возможно сформироваться национальным государствам. Большая часть национальных государств, которые существуют на Ближнем Востоке, были созданы во многом
искусственно.
Следует напомнить, что после заключения соглашения Сайкс-Пико и развала Османской империи, большая часть этих государств стали мандатными территориями, которые были разделены между Францией и Великобританией и их границы были определены достаточно искусственно. Процессы, которые происходят в этих странах, в том числе формирование политических наций, или процессы более сложного характера, связанные с религиозными и культурными различиями внутри этих стран, только-только приобрели такой большой масштаб. Есть ключевые страны на Ближнем Востоке, от которых во многом зависит будущее этого региона. В первую очередь это Египет и Саудовская Аравия, но и будущая судьба Ирака и Сирии тоже будут определять будущее этого региона.
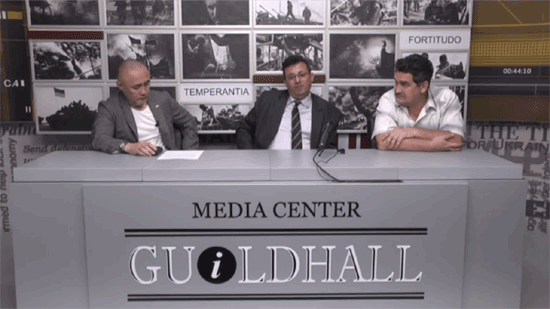
Все это говорит о том, что Ближний Восток, его страны и народы вошли в период динамических изменений. Этот период изменений не означает, что процесс будет положительным и все страны и народы выйдут из него победителями, кто-то в этой войне и в этой борьбе может реально проиграть. Но очевидно, что Ближний Восток уже не будет таким, каким он был в 70-е годы, когда формировались авторитарные режимы, когда волна национально-освободительных движений сформировала тот мир, который мы видели до начала арабской весны.
Мы видим, что арабская весна стала рубежом, после которого ситуация на Ближнем Востоке стала бурлящей. Если мы перенесемся на территорию Средней Азии, то увидим, что там была привязка к Советскому Союзу, потом был парад суверенитетов после известной встрече в Белоруссии. Но во многих из этих стран авторитарные режимы сохранились, и событий, аналогичных арабской весне на Ближнем Востоке, пока не наблюдается. Когда это может произойти?
Айдос Садыков:
«Арабская» или «азиатская» весна не зависит от нас, а зависит от ситуации. Это может случиться хоть завтра, когда люди выйдут на улицы. Если они долго продержаться, то произойдет смена власти и так далее. Но здесь следует сказать, что и Назарбаев и другие руководители среднеазиатских государств – это все ставленники Москвы, они все бывшие секретари партийных организаций, которые возглавляли республики, а потом автоматически стали президентами. Они сохранили связь с Москвой и продолжают ориентироваться на нее в первую очередь. Это сильная экономическая и политическая связь и от этого мы пока никуда не можем деться. Поэтому, сейчас смена власти в Казахстане или других республиках, попытка отойти от колониального диктата Москвы – это вопрос, ответ на который трудно угадать. Будем надеяться на лучшее.
Во время арабской весны был большой запрос на «социальные лифты», чтобы народ получил возможность участвовать в работе институтов власти, и это стало детонатором последующих событий. Потом наступила фаза контрреволюции в некоторых странах, например в Египте. Что касается среднеазиатских стран, есть ли там запрос на социальную справедливость? Что мешает политически активным оппозиционным силам в Казахстане, например, воспользоваться опытом арабской весны, чтобы запустить начать процесс переформатирования?
Айдос Садыков:
Перенести украинский или арабский опыт на казахскую почву никак не получится, потому что отличаются условия, менталитет, культура, характер существующего режима, насколько он жесткий. Те люди, которые выходили и организовывали митинги, сегодня им грозит 15 лет лишения свободы. В Украине за организацию митингов ничего не грозило, а в Казахстане за это грозит 15 лет тюрьмы. Это большая разница. Даже на организационной стадии, когда люди еще только договаривались, но еще не выступали, их приходили и арестовывали дома. Поэтому революция там будет происходить по-другому, чем в Украине или в арабских странах. Влияние социально-экономической ситуации тоже очень сильно, потому что падение цен на нефть и другие ресурсы тоже сильно влияет на активность народа, потому что падает уровень жизни, растет безработица, средний и мелкий бизнес разоряется, и эти люди пополняют ряды оппозиции. Некоторые занимают более радикальную позицию, пополняя ряды исламских радикалов. Многое зависит и от слабости режима, малейшее его ослабление сразу сказывается на ситуации.

Мы видим, что после арабской весны в арабском мире исламский фактор стал очень существенным, объединяющим. В Египте к власти пришли братья-мусульмане, в Тунисе – их аналог партия «Ан-Нагда». В среднеазиатском варианте «исламский» фактор активный, или находится в пассивном состоянии?
Игорь Семиволос:
Несомненно, он активен, потому что если мы говорим об арабской весне, или каких-то волнениях и революциях, то, в такого рода волнениях, всегда есть большой запрос на справедливость. Справедливость – это вещь очень условная, мы знаем, что каждый видит справедливость по-разному. Но если мы говорим об Исламе, то здесь справедливость является одним из краеугольных камней. Поэтому исламисты во многом предопределили и попытались возглавить народное восстание, предложив населению свое прочтение справедливости. Где-то это произошло, а где-то нет, но на самом деле ситуация во многом зависела не оттого, как исламисты пытались навязать населению свое видение справедливости, а оттого, существовали или нет в этих арабских странах институты, которые бы отличались от исламистских институтов. Первая вспышка революции произошла в Тунисе, где сейчас существуют институты парламента, правительства, и даже исламисты в Тунисе готовы договариваться, готовы выстраивать и создавать новый социальный порядок с представителями других групп. Если в государстве, которое оказалось в пучине достаточно драматических революционных событий, сохраняются институты, благодаря которым народ может удержать саму конструкцию государства, сохранить его, тогда революция может привести к положительным изменениям. Там, где эти институты слабы или их нет, там появляются новые институты, те же исламистские, которые будут заполнять этот вакуум своим видением справедливости. Египетская контрреволюция – это классика жанра, потому что в Египте оставался только один альтернативный работающий институт – армия. Когда исламисты пришли к власти, а надо сказать, что пришли к власти они демократическим образом, но затем у них возникло желание сделать то, что они сделали везде: отменить демократические институты. Я считаю, что путь, по которому в Египте пошли военные, не правильный. В момент, когда Морси был поставлен перед выбором, и когда он уже был готов договариваться, надо было договариваться. Но военные не доверяли исламистам, и пошли на переворот. Сегодня мы видим серьезный откат Египта от достижений арабской весны. Поэтому институты являются ключевым ответом на многие вопросы и противодействием тому, что любая идеология, если нет институтов, может захватить пространство и общество. Тогда получается, что революция может привести к установлению диктатуры – теократической.
Мы знаем, что сразу после получения независимости, не только Казахстаном, но и всеми республиками постсоветского пространства, была волна создания неких духовных управлений. Эти институты стали подпитывать авторитарные режимы. Какова роль духовенства в Казахстане? Оно поддерживает авторитарный режим? Или может стать источником рождения каких-то более демократических форм?
Айдос садыков:
В Казахстане есть такая организация, созданная властью, которая называется «Духовное управление мусульман Казахстана». Управляется оно муфтием, который назначается с согласия администрации президента по рекомендации Комитета национальной безопасности. То же самое происходит и на низовом уровне каждый имам в мечети и в области назначается после согласования и по рекомендации спецслужб. Понятно, что эти люди всегда поддерживают власть, поэтому официальное религиозное направление, не только мусульманское, но и христианское и другие, все взяты под контроль. Назарбаев – бывший коммунист, поэтому везде все берется под контроль, ставятся свои люди. Даже в криминальном мире у них все авторитеты назначаются сверху. Правда со временем выясняется, что авторитет раньше сотрудничал или был милиционером, но когда это выясняется, уже бывает поздно.
Мы видим, что авторитарные режимы используют институты духовенства в качестве подспорья, чтобы удержаться. В арабском мире есть официальная религия, которая укрепляет авторитет власти. В советской модели управления религия была отделена от государства, а сейчас мы наблюдаем некий симбиоз духовной и светской власти. Может ли такая тенденция вылиться в религиозные и межконфессиональные войны?
Игорь Семиволос:
Вряд ли вокруг этого возможна война, поскольку мы имеем дело, прежде всего с культурой, а культура наших бывших советских людей авторитарна. Во многом определенный запрос на авторитаризм имеет свое продолжение и в религии. Конечно, после возникновения этих духовных управлений мусульман в разных странах, в России – русская православная церковь, они могут являться еще одним из институтов авторитарного режима. Но по большому счету внутри этот институт мертвый. Если говорить о неком живом организме, то можно предположить, что существуют некие имамы, которые избирают муфтиев, то есть, муфтият функционирует, как живой социальный инструмент, благодаря которому происходит сложная и важная функция: осуществление религиозных обрядов. В авторитаризме всего этого нет, религиозные обряды отправляются, но сами институты выхолощены. Поэтому всегда возникает угроза появления других альтернативных религиозных структур, которые являются оппонентами этой государственной религии. История полна подобных примеров. Если говорить о конкуренции, потому что конкуренция является первой предпосылкой развития демократических процедур. В Украине конкуренция всегда существовала и была правом всех, здесь всегда существовала конкуренция между православными церквями, между духовными управлениями мусульман, здесь есть 5 или 6 таких духовных управлений. Никто не может объявить себя главным муфтием – здесь этого нет. В других авторитарных странах это является одной из опор власти и этому уделяется особое и большое внимание, поскольку всем известно, что религия может служить хорошим и эффективным инструментом для контроля над населением при авторитаризме.
Мы помним, что на каком-то периоде Украина пережила авторитаризм, потом произошла революция Достоинства. Есть ли вероятность того, что авторитаризм вернется в Украину?
Игорь Семиволос:
Я не считаю, что Украина пережила авторитаризм в его классическом понимании, как в некоторых странах постсоветского пространства или арабских странах. Это была неудачная попытка внедрить авторитаризм в мягкой форме. 16 января 2014 года является именно той датой, которая уничтожила старый социальный порядок, потому что были приняты диктаторские законы, которые разрушили старый социальный порядок, существовавший в Украине. Его можно называть олигархической республикой или как-то иначе, но это была конкурентная среда с достаточно большим уровнем политического диалога в рамках политического класса.
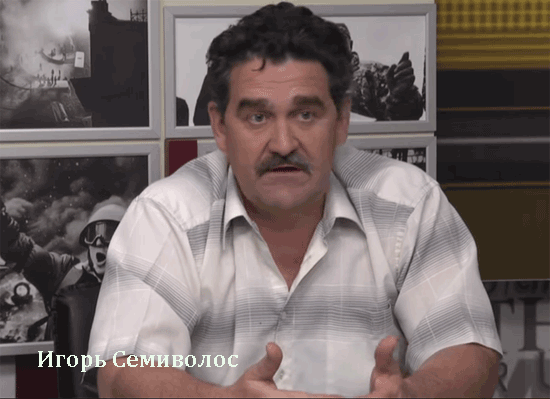
Новый социальный порядок еще достаточно сложен, он не сформирован до конца. Его формирование в значительной степени определяется войной. В условиях войны возникает опасность того, что будут применены, в том числе, авторитарные методы управления. Но поскольку украинские государственные институты еще слабы, то я не верю в возможность авторитаризма в нашей стране. Более того, вся предыдущая и нынешняя история нашего государства – это евроинтеграция. Евроинтеграция предполагает, что эти институты трансформируются по европейским стандартам. Эти стандарты внутри себя могут нести какие-то авторитарные тенденции, но они минимизируют эти риски. Поэтому в обозримом будущем я не вижу возможности возникновения авторитарного государства.
После аннексии Крыма Россией там существует большой потенциал национально-освободительного движения. Борьба, которая сегодня происходит в арабском мире и в среднеазиатском пространстве против тоталитаризма может активизировать механизмы национально-освободительного движения против авторитарной власти в Крыму?
Игорь Семиволос:
Думаю, что это очень сомнительно, потому что нужно отдавать себе отчет, что Крым находится в положении оккупации. Оккупация – это несколько иной режим, иное состояние общества, чем состояние трансформации и наличия неких демократических процедур. Следует сказать, что с момента первой аннексии Крыма Российской империей до нынешнего времени проводила последовательную политику вытеснения коренного населения Крыма и замену его русскими. Соответственно, коренного населения в Крыму осталось от 11 до 15%, и этого не достаточно, чтобы создать революционную ситуацию. Освобождение Крыма в значительной степени зависит от действий украинской армии, и от будущего самой России и в этом плане я думаю, что судьба авторитарных режимов в Центральной Азии во многом будет зависеть от будущего России, и от того, сможет ли Россия пережить этот тяжелый для нее период 5-10 лет. До 2025 года период будет достаточно критическим для России и во многом судьба Крыма и постсоветского пространства будет определена именно в этот период.
Господин Садыков, как вы смотрите на концепцию, которую изложил Господин Семиволос?
Айдос Садыков:
В целом я согласен, потому что ситуация в Крыму отличается от той, которая была в Украине и активисты в Крыму, находясь в условиях другого режима не могут так же активно действовать. Они понимают, что их преследуют, убивают. Поэтому все будет зависеть в первую очередь от ситуации в России, насколько будет слабым или сильным режим в России, каким будет влияние западных стран, как они будут действовать, и какое влияние будут оказывать. Но от активности коренного населения Крыма, которое попало под жесткий прессинг и которого очень мало зависит во вторую или в третью очередь. Тем более, что методы борьбы, озвученные лидером крымских тата Мустафой Джамилевым, мирные и в нынешней ситуации вряд ли приведут к быстрому успеху.
Авторитарные режимы опираются на поддержку нескольких институтов, одним из которых является официальное духовенство. Кроме того, переформатирование этно-культурной платформы помогает контролировать электоральную симпатию?
Игорь Семиволос:
Я бы добавил еще один институт – силовые структуры, который является очень важным для любого авторитарного режима. Это не просто силовые структуры, это политический класс, являющийся только верхушкой айсберга, за которой идут экономические интересы, бизнес и так далее. Это характерно для Египта, почему институт армии там был важен. Потому что это была не просто армия и вооруженные люди, за этим стоял огромный бизнес и коррупция. Во многом причиной переворота стало то, что исламисты захотели забрать часть этого бизнеса у армии. Авторитарное государство активно использует всевозможные репрессии. В Советском Союзе было инновацией то, что была создана иерархия народов, вверху находился русский народ, затем шли украинцы и белорусы, затем – народы республик и есть еще народы-враги. Такая иерархия была очень удобной для управления, потому что всегда находился народ, который можно было пинать, который находился ниже по статусу. Советская концепция «дружбы народов» была достаточно лицемерной и выстраивалась согласно этой иерархии. Сейчас события, которые происходят в постсоветских странах, характерны тем, что происходит смена иерархий. Раньше считалось, что во всех советских республиках должны существовать русско-украинские альянсы, если начальник украинец, то заместителем должен быть русский, или наоборот. Сейчас это все ломается и в Казахстане этот процесс тоже происходит, Казахстан активно переходит на национальный язык и колониальное прошлое, характерное и для Казахстана в том числе, постепенно уходит.
В Казахстане есть русская этническая составляющая. Как она себя чувствует?
Айдос Садыков:
В целом русские чувствуют себя нормально, потому что некоторое время в Казахстане русских было больше, чем казахов, до 1991 года казахов было 33%, а русских – 42% от населения. До сих пор в Казахстане живет до полумиллиона украинцев.
Если вспомнить историю, то первый «Майдан» произошел в Казахстане в 1986 году, когда тысячи молодых казахов вышли, протестуя против назначения Геннадия Колбина первым секретарем ЦК компартии Казахстана. Погибли сотни людей, но это был первый протест против того, чтобы поставить во главе страны этнического русского. Через два года Кремль идет на компромисс, Колбина убирают и ставят Назарбаева, но с условием, что компромисс между русскими и казахами будет найден, которых к тому времени было столько же, как и казахов. Премьер-министром становится русский. Долгое время после этого русский олигархат, который тогда формировался, активно работал в экономике Казахстана. То есть альянс был, но с усилением позиций Назарбаева и его семьи, с усилением казахского окружения Назарбаева, которое богатело и укрепляло свою власть, русский сегмент ослабился и начал уходить. Пришли представители зарубежного бизнеса: китайцы, узбеки, израильтяне. Доля российского бизнеса постепенно уменьшается.
Другой институт, на который опираются авторитарные режимы, это легионеры из других стран, советники, партнеры, транснациональные компании. Могут они подпитывать авторитарные режимы?
Игорь Семиволос:
Да, более того, если рассмотреть ситуацию с арабской весной, то существует много версий по поводу того, как это происходило, и кому это было выгодно, и кто это все организовал, но к началу арабской весны возникла ситуация, когда для большинства западных государств и западных корпораций это стало совершенной неожиданностью, а второе, они не были готовы к этим изменениям. Их первая реакция заключалась в том, а что можно сделать, чтобы остановить все это, потому что все это воспринималось, как серьезная дестабилизация. Поэтому для авторитарных режимов наличие таких союзников является крайне важным. Многие авторитарные режимы существуют за счет использования ресурсов, благодаря которым они могут выстраивать систему репрессий внутри страны, или систему, которая позволяет держать население в покорности.
А как Россия в этом плане использует Газпром?
Игорь Семиволос:
Мы привыкли, что Газпром и все, что с ним связано, всегда использовалось Россией в качестве оружия, мы помним «газовые войны». Россия прошла период «жирных коров», но в отличие от Иосифа, который вовремя предупредил фараона о том, что период «жирных коров» закончится, они этого не учли, думая, что цена на нефть и газ будет всегда высокой. Их прогнозы строились на том, что зависимость мира от российского газа и нефти будет только увеличиваться. Россия входит в абсолютно новый период, а политика, которую она проводит на постсоветском пространстве, строилась с учетом этих больших ресурсов. Сегодня мы будем наблюдать, как эта политика будет сжиматься, как шагреневая кожа и это один из важных компонентов, который будет подрывать стабильность авторитарных режимов, и в первую очередь, режим в Беларуси. Мы видим, как Лукашенко уже пытается находить компромисс между Европой и Россией, чувствуя, что этот период для него заканчивается и следует искать новые ресурсы и возможности, которые он видит в Европейском союзе.

Для режимов в Центральной Азии это сложнее, потому что они были более жестко завязаны на Россию. Там еще достаточно жестко был привязан вопрос безопасности. Так есть еще один очень активный игрок Китай, который часто воспринимается некоторыми азиатскими республиками не совсем положительно, потому что есть определенные угрозы со стороны Китая. Есть еще один фактор, это развитие общества, его институтов, которые находятся, к сожалению, на очень низком уровне. По сути, режим уничтожил все институты.
После того, как упали цены на углеводороды, в Казахстане усилились репрессивные меры? Ощущает режим, что если нет финансовой подпитки, следует прибегать к другим механизмам контролирования?
Айдос Садыков:
Под антикитайскими лозунгами прошли последние митинги в Казахстане. Народ Казахстана считает, что именно Китай, а не Россия представляет опасность для их страны.
Игорь Семиволос:
Я бы сказал, что Китай – это отдельная цивилизация. В Украине нет таких угроз, которые существуют в странах Центральной Азии, но политика Китая – это политика, рассчитанная на десятилетия, они никогда не спешат в отличие от россиян.
Айдос Садыков:
Политика проникновения. Если россияне гремят, шумят и видно, будто пришел медведь, то китайцы тихо и незаметно проникают. Это серьезная проблема, если бы у Назарбаева не было этих двух опор, если бы не было ресурсов, то режим бы быстрее сменился. Например, к Киргизии, где особых ресурсов нет, и особых интересов со стороны крупных держав тоже нет. Но основная внутренняя проблема и Украины, и Казахстана – это олигархат. Эту проблему надо решать, потому что смена одного только Назарбаева в Казахстане ничего не изменит, нужно изменить систему, сменить элиты, ограничить влияние олигархов. Если этого не сделать, то вместо одного диктатора придет другой.
Вторая часть: Вопросы аудитории экспертам:
- Говорят о том, что отличительной чертой протестов в Казахстане является ксенофобия. В то же время говорят о том, откуда все это началось. Насколько вопрос углеводородов, их цены и участия Китая в тех или иных компаниях в Казахстане является причиной всех этих процессов?
Айдос Садыков:
Фобия по отношению к китайцам у нас есть давно, но в западных регионах Казахстана находятся месторождения нефти, многие из которых проданы Китаю под видом долгосрочной аренды. Некоторые из них проданы уже 20 лет назад. Сейчас, когда упали цены на нефть, идет увольнение рабочих с этих предприятий и в первую очередь жителей Казахстана, и на некоторых предприятиях уволено до 70% рабочих. А люди привыкли получать стабильную и высокую зарплату (около 1000 долларов), и теперь эти люди не довольны. Они и раньше были не довольны китайским проникновением, но теперь к этому добавилось недовольство своим финансовым положением. Все это влияет на настроения людей.
- Роман Бессмертный, представитель Украины в контактной группе сказал, что есть большая угроза того, что на севере Казахстана может повториться донбасский сценарий. При каких условиях и может ли это произойти до смены Назарбаева?
Айдос Садыков:
До смены Назарбаева это вряд ли произойдет, потому что Назарбаев находит компромисс, хотя компромиссом это трудно назвать, потому что он полностью находится под влиянием России, и своей политики у него нет. Смена режима Назарбаева будет означать отсоединение Казахстана от России. Сейчас мы полностью находимся под пятой России и, отсоединившись, мы можем потерять Северный Казахстан и часть восточного. Но это зависит от многих факторов: от адекватности новой власти, от быстроты смены власти, от активности народа, от готовности вооруженных сил и от ситуации в Москве. Какой режим будет в Москве, на что он будет способен и на что он будет готов – это все будет влиять на ситуацию в Казахстане.
- На прошлой нашей встрече неделю назад вы оценивали градус накала в обществе Казахстана. Как изменилась ситуация спустя неделю и есть ли предпосылки для того, чтобы все зажглось с новой силой?
Айдос Садыков:
Произошло то, что более 50 человек арестованы и половине из них выдвинуты обвинения уголовного характера. Многим лидерам грозит длительное лишение свободы, их обвиняют в попытке государственного переворота. Эти мирные митинги власть считает попыткой государственного переворота. Более умеренных активистов они купили, пригласив в разные статусные комиссии, предоставив возможность для развития бизнеса. Остальных активистов, с которыми невозможно договориться, просто жестко прессуют. Но это не означает, что протесты погасли полностью. Если мы раньше говорили, что в условиях Казахстана нельзя действовать открыто, это поняли сегодня все. Мероприятия надо готовить в условиях подполья, конспиративно, потому что режим в Казахстане совсем другой, чем в Украине. Главной ошибкой организаторов митингов, которые были назначены на 21 мая, была открытость. Мы были вынуждены их поддержать, потому что это бы подхватили многие регионы. Но в целом, это была ошибка, что за месяц вперед было объявлено о дате проведения всеказахстанского митинга. Власть к этому усиленно готовилась, были перекинуты вооруженные силы в те регионы, которые наиболее активно и массово выступают. Города были поделены на сектора, были арестованы все активисты, организована прослушка, поставлены снайперы на крыши.
- Насколько казахское общество готово к революции, к смене власти в стране?
Айдос Садыков:
Всегда бывает готовым только 0,1% общества, которые решают вопросы. Ни в Украине, ни где-то еще общество никогда не бывает готовым к смене власти. Это будет зависеть именно от активной части населения, готовой на жертвы, от того, насколько они организованы, мобильны и насколько далеко они готовы зайти.
- Я не услышал о противоречиях в самом обществе. Например, в Украине часть населения хочет дружить с Россией, а другая часть хочет жить по европейским нормам. Это противоречие видно, виден раскол в обществе. В странах Ближнего Востока, наверное, есть противоречия религиозного и этнического характера. А вот в странах Азии постсоветского пространства, какие есть противоречия в обществе?
Айдос Семиволос:
Я думаю, что наши противоречия очевидны, потому что мы живем внутри этого общества и знаем эти противоречия. На самом деле противоречия существуют всегда и во всех обществах, линий раздела много. Если говорить об арабских странах, то это линия раздела между светским и религиозным, исламисты и националисты. Потом идет этно-конфессиональный раздел, который есть в каждой стране, вопрос доступа к ресурсам, то есть какие группы имеют доступ к ресурсам, а какие нет. Если говорить о постсоветских странах, то там происходит примерно та же ситуация: ключевой линией раздела является то, что мы с Россией или против нее. В любой из постсоветских стран это ключевая линия. Второе это авторитаризм и демократия. Есть еще национальное и национально-освободительное движение и постколониальные элиты, это тоже раскол. Раскол между элитами, которые лояльны к бывшей метрополии и новыми национальными элитами, это тоже актуально на постсоветском пространстве. Потому что за прошедшие 25 лет там появилось большое количество и местного бизнеса, который хочет получить свою долю на этом рынке ресурсов и вытеснить постсоветские элиты, которые их контролировали. В каждом отдельном случае мы можем находить различия, но в целом эти линии разлома существуют в каждой из постсоветских республик.
Айдос Садыков:
Ориентация на Россию в Казахстане всегда будет, потому что мы связаны, у нас общая граница и влияние России всегда будет сильным, но какое это будет влияние? Силовое влияние? Мягкое и добрососедское влияние? Вот о чем идет речь. Дружить с Россией нужно и можно, но дружить с путинской Россией невозможно, потому что они диктуют нам свои условия, заставляя идти против Запада, поддержать аннексию Крыма и попытку захвата Донбасса. С такой Россией мы далеко не пойдем, потому что это не будет самостоятельность, состояние полуколонии, как это сейчас.
- Бесполезно спорить с тем, что абсолютное большинство оккупированного Крыма занимает маргинальную позицию, они продолжают любить Путина и Сталина, не смотря на все проблемы. По разным оценкам военная группировка России, которая там находится, это от 20 до 30 тысяч военных. В то же время мы знаем, что на полуострове находится от 20 до 30 тысяч крымских татар призывного возраста и тот маховик репрессий, который раскрутил Кремль, вышел за пределы любых рамок. Возможен ли сценарий вооруженного силового сопротивления со стороны крымских татар?
Игорь Семиволос:
Думаю, что русские бы с удовольствием этот сценарий реализовали, потому что для них это наиболее удачный сценарий. У них есть опыт, как решать подобные вопросы на Северном Кавказе. Я говорил еще в начале, что в Крым придут эти северокавказские практики, и то, что мы сейчас наблюдаем, и есть реализация этих практик. Для россиян было бы крайне важно создать такое вооруженное подполье и воспользоваться ним, как поводом, для расправы с национальным движением. Естественно, ни о каком вооруженном подполье в Крыму говорить не нужно, можно все это делать совсем по-другому. Главное сегодня – это сохранить крымских татар на полуострове, и сделать все, чтобы Россия не смогла уничтожить их институты. Если мы говорим о Межлисе и Курултае, как об институте, то их уже уничтожили, но национальное движение крымских татар существовало и до возникновения Межлиса и Курултая. Оно ни куда не денется и будет существовать в других формах, благодаря тому, что существуют коммуникации, управление такой структурой можно осуществлять на удалении. Поэтому альтернативой этому будет возникновение параллельных институтов власти будущей Автономной Республики Крым на материке, и это то, что сейчас происходит. Возможно, возникнет новый институт муфтията, потому что то Духовное управление мусульман Крыма, которое оказалось в оккупации, было не подготовлено к оккупации и приняло игру оккупанта. Через этот институт россияне пытаются активно влиять на крымских татар. Все эти процессы будут происходить, хотят ли этого русские или нет.
Что касается призывной молодежи, то это большая проблема для крымских татар. С одной стороны есть четкое понимание того, что нельзя бросать родину, что крымские татары должны до последнего держаться за свою землю и оставаться в Крыму. С другой стороны, угроза оказаться в российской армии является проблемой. Хорошо, что в значительной степени решен вопрос с абитуриентами с оккупированных территорий, когда крымчане, окончив российскую школу, имеют возможность поступать в украинские ВУЗы.